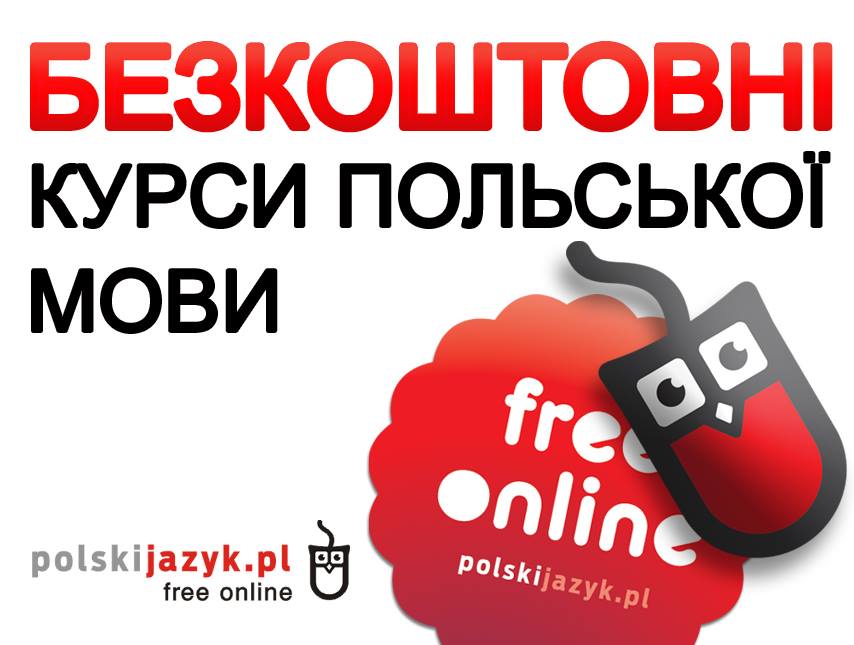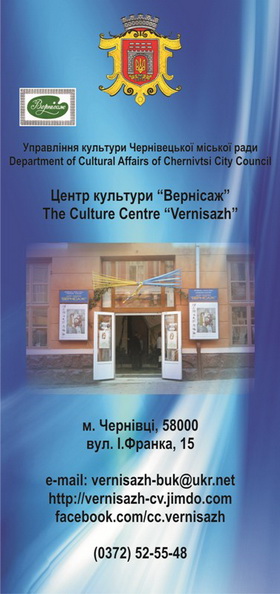В луже мутного лунного света (на вікенд)
Жизнь Мишеля началась и стремительно протекала главным образом в советское время, в его ранней стадии, еще тогда, когда Черновцы гордо именовались на географических картах «город Черновицы».
Хотя родился Мишель крайне несоветским. Наиболее заметное его отличие от обычного гражданина СССР состояло в том, что он свободно владел семью иностранными языками. Как это произошло Мишель точно не запомнил и потому до определенного времени считал это совершенно нормальным.
Однако приблизительно в шестом классе он заметил, что другие ученики прилично не знают даже родного для них языка, и стал себя бесконечно и глубоко уважать. После первого удивления к нему пришло осознание собственной исключительности, в какой - то мере, космичности, непринадлежности к общей массе.
Постепенно ему уже не хотелось проводить время дома, на Богдана Хмельницького, где была только мама – тетя Броня, которая несколько десятилетий торговала синькой на Еврейском базаре, и не было даже зеркала, не говоря уже про телевизор. Он превращался в уличного вундеркинда, хотя в собственном исключительном одиночестве все более растворялся в городском людском планктоне.
Мишель научился языкам от отца, которого почти не помнил. Отец всю жизнь работал дворником при всех городских властях и просто обязан был знать языки – от сочного черновицкого идиша до русского. Иначе – тихое пренебрежение, дискомфорт на службе и, наконец, позорное и неотвратимое увольнение.
Мишель овладел языками свободно, играючись, легко и непринужденно. Как детскими шалостями, которым никто малышей не учит. Он до сих пор смутно помнил как отец, приходя с работы, тяжело дышал на него парами дешевых ликеров или копеечного бессарабского вина, и, подбрасывая к никогда не беленному потолку тряпичную куклу-гимнаста, путано рассказывал эмпирические сказки о кронпринцах, золушках и зайчиках. А еще они с отцом однажды ходили к театру, вокруг которого сделали несколько кругов, старательно осмотрев белые бюсты незнакомых им обоим людей под его крышей.
Тем временем в городе происходили довольно странные вещи, которые и помогли Мишелю, в конце концов, окончательно стереть в памяти светлый образ отца. Черновицы пока щадяще приучали к советскому образу жизни. Все объявления власти печатались на украинском и немецком языках, а также на идиш, причем настоящими еврейскими, похожими на мертвых змей, буквами. Потом не спеша закрылось большинство местных лавок, где можно было приобрести всякие мелочи – от карандаша, карманного ножика и школьной тетради, до подсолнечного масла и рахат-лукума. Горожан старательно приучали к очередям, незаметно появилось выражение «достать», которое потом преследовало черновицкого человека на протяжении многих следующих десятилетий. Хотя уже давно была ликвидирована карточная система, в немногих еще открытых лавках «выбрасывали» то сахар, то сливочное масло, и, узнав об этом, люди немедленно выстраивались в очереди по сто и более человек. Какие то добровольные организаторы из числа отборных люмпенов Каличанки сурово следили за порядком, а люди тихо стояли по несколько часов подряд, потом счастливо, беззлостно и про себя ругали потерянное время, направляясь по домам и держа под мышками мешочек с килограммом - другим чего-нибудь.
Вскоре объявили, что большая страна требует больше денег. Всем нужно было подписаться на госзаем на сумму не менее одного оклада. Люди послушно подписались. Одновременно они впервые увидели красноармейцев в валянках, которые до этого в городе носили только ездовые или водители трамваев. Проводилось много «культурных мероприятий», на которых граждан ненавязчиво знакомили с советским искусством. На Театральной площади оборудовали гигантскую естраду, где выступали то казачий хор, то экзотические танцоры из Узбекистана, то кукольный театр Образцова, который, впрочем, горожанам понравился. В кино шли советские фильмы, которые мало кто понимал, потому что они были русскоязычными. Однако ушлые черновчане постепенно поняли, кто из героев – «наши», а кто – «враги». Правда, от этого им материально легче не становилось.
А вот отца у Мишеля больше не было. От него остались только бесполезные теперь языки и несоветское его имя. Мать потом рассказала, что отец пьяным замерз у корчмы на Сталинградской. В городе всегда было так: у плохой жены муж покупал водку, у хорошей – ликеро-водочные заводы.
Мишель взрослел. Он начал интересоваться толстыми энциклопедиями и лекциями о международном положении. Как-то на одной из таких лекций после того, как лектор отметил, что мы обязательно в ближайшее время догоним проклятую Америку, бледный еврейский мальчик по фамилии Саша Карминский, «швицая без аспирина» как тогда говорили, предельно наивно спросил:
- А вот когда мы догоним Америку, можно будет там остаться?
Мишель таким наивным никак не становился. Он приспособился жить незаметно. Потому положил на себе крест. В те времена бывало, что крест, положенный на человека, - его единственный плюс.
А для повседневного общения с горожанами из семи ему известных языков Мишель выбрал французский. Возможно потому, что Черновицы кто-то самоуверенно нарек «маленьким Парижем».
Он, официальный городской идиот со справкой, шлялся по улицам в старом светлом макинтоше, с болониевой синей авоськой и, искренне заглядывая в глаза прохожим, приветливо здоровался с ними на языке Мопассана и Пиаф. А потом, переступая через мутные лужи или компактные кучки собачьего дерьма, он всегда успевал своевременно подчеркивать:
- Шарман, бля!
Однако выходило, что Мишель разговаривал сам с собой. Никто не понимал его, не замечал и не обращал на него никакого внимания. Как и на грязные лужи.
Мать все так же торговала синькой на Еврейском базаре, который продолжали так называть, так как евреев еще проживало в городе немало. Мишель перед обедом всегда заходил на работу к матери и та величаво вручала ему синие три рубля, на которые он достаточно бодренько существовал целый день. В те времена это была немаленькая сумма для человека без изысканных эстетических потребностей и духовных запросов. На нее можно было совершенно пристойно жить, ожидая наступления коммунизма, когда, наконец, «все источники общественного богатства польются полным потоком и осуществится великий принцип «от каждого – по способностям, каждому – по потребностям».
А пока что на синие мамины три рубля Мишель дважды в день заходил в пивбар на Горького, где пил свежайшее жигулевское пиво и ел мясистую скумбрию, заботливо разделанную барменом Яшей на серые аппетитные колечки. Потом он языком оригинала обсуждал вечные идеалы Великой французской революции с завсегдатаем заведения глухонемым с детства по имени Моня, и со сдержанными выкриками «Непал – для непальцев! Пальцы – вон из Непала!», изысканно перемещался выше, в знаменитую пельменную на Богдана Хмельницкого.
Даже покурить было полезнее, чем есть те пельмени, но Мишель принципиально употреблял их, так как не любил еду, в которой понтов больше, чем калорий. По этой причине он ненавидел, в частности, дефицитные советские сосиски.
Посетители пельменной четко делились на две большие категории. Одни, входя в заведение и отодвигая влево нарезанную на ленты голубую клеенку, нацепленную на входные двери, выкрикивали: «О, кого я вижу!», а другие – «А вот и я!».
Мишель уверенно принадлежал ко второй категории и посетители (а это обычно вечно голодные, но жадные экспедиторы предприятий легкой промышленности и студенты университета) всегда были рады его видеть. По крайне мере они никогда не били его сразу. В пельменной Мишель пригубливал немного водки из небольшого липкого гранчака. Потом он молча пожирал соловеющими глазами величественный зад тети Бэллы – местной официантки с довоенным стажем, а та всякий раз ему приветливо парировала: «Смотри, но не чавкай!». Он всегда завершал свое пребывание в заведении собственной дефиницией о том, что на самом деле земля квадратная, но знают об этом только исключительно везучие советские космонавты и те народы, которые живут по углам.
Дни заканчивались одинаково – он возвращался вечером домой, по-французски громко горланя на затихшей улице самодельный гимн своей непокоренности – «Я в Булонском лесу пил березовый сок».
Картавые слова текстов Мишеля отражались в лужах мутного лунного света и, замирая в ночной вышине, взлетали на далекий Монмартр.
В подъезде привычно пахло свежей мочой. Он так же привычно говорил гулкому подъездному эху о том, что снова какое-то быдло нагадило там, и так же привычно получал решительный ответ-пощечину от соседа-эксэнкэвэдиста с первого этажа: «Ох и не любите вы, Миша, все наше советское!».
По утрам Мишель все четче осознавал, что Велыкый Кучурив уже откровенно наплевал на «маленький Париж».
От этого ему становилось еще хуже.
Мама до самой смерти умоляла Мишеля жениться. Но для него это была довольно сложная штука. «Вопрос не в том, - громко рассуждал он, - женится ли наконец на острозадой соседке Соне или нет. Вопрос в том, что делать с остальными девушками?». Кроме того он считал, что любовь – пагубное чувство, которое тихо разрушает здоровый эгоизм вместе с инстинктом самосохранения, выдвигая на передний план инстинкт продолжения рода, внося в мысли сумбур, а в речи – пылкость.
Так мать и не дождалась. Мишель продолжал жить смертью храбрых, зарабатывая те же три рубля переводами у студентов факультета иностранных языков. Он никогда не запоминал их имен, но всегда забывал лица.
Светлое будущее было не за горами, оно вообще находилось неизвестно где. Знакомую кондукторшу трамвая тетю Цилю как то даже отвезли в больницу №2 с острым отравлением счастливыми билетиками. А скрижалями, на котором вырисовывалось будущее, стали шершавые стены черновицких подъездов.
Город же продолжал излучать запахи: в январе – мороза и накрахмаленного белья, в феврале – весны, в марте – гриппа, ангины и йода, в апреле – коммунистического субботника, в мае – ранней черешни, в июне – первых грибов, в июле – дождей и прутской воды наводнений, в августе – яблок и вареной кукурузы, в сентябре – жареных гогошаров и школьного мела, в октябре – каштановых листьев, в ноябре – зимы, в декабре – елей.
«Не надо ставит точку там, где сердце ставит запятую», - весело подумалось Мишелю по-французски.
Но его опять никто не понял…
Владимир КИЛИНИЧ