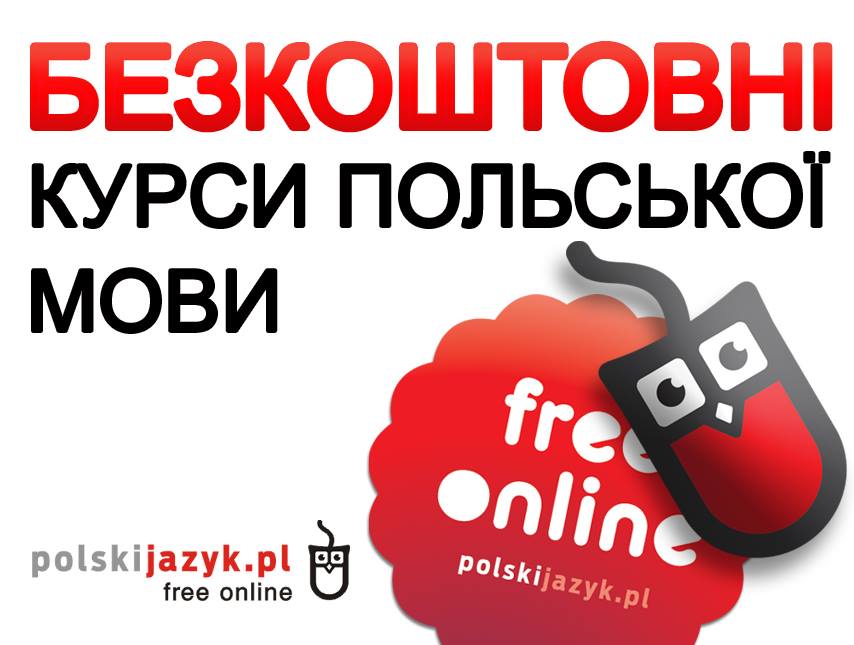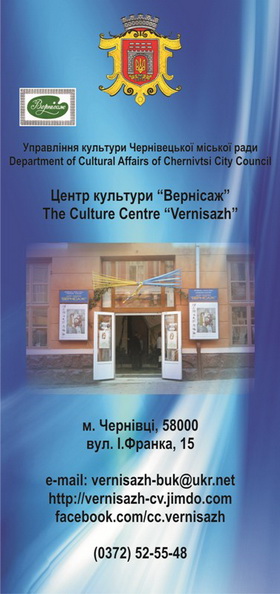"Czernowitz зовет!" (Історія написання "Першого життя" розказана самим автором)
Воспоминания о детстве возникли у меня после того, как получил от сестры фотографию четырехлетнего мальчика со светло-русой челочкой, который прижимал к сердцу большущий складной нож — подарок итальянского майора Квадрони моей матери... Но не буду повторять рассказанное в «Первой жизни». Восстановив в памяти мой день рождения, в честь которого мне разрешили поиграть с «моим» ножом, я по цепной реакции увековечил обстановку и предысторию этого праздника, откуда до связного повествования оставался только один шаг, благо с четырех-пяти лет я помнил уже многое.
Жизнь в Черновцах, «городке на холмах», бывшем австро-венгерском форпосте, расположенном географически и политически между западом и востоком Европы, была настолько своеобразной и непонятной как западному европейцу, так и жителю Балкан, что я не мог не написать о ней хотя бы маленький очерк. Конечно, былое не вернешь, и было бы смешно оплакивать «добрые старые времена». Тем более что они такими были отнюдь не для всех (хотя многое в прошлом искажалось тенденциозно), но я, как раз ради истины, считаю, что свидетель истории, носитель традиции просто обязан сохранить то, что ведомо ему, но другим, молодым, — нет. Однажды уже говорил, что чувствую себя, как недоенная корова!
Писать — либо потому, что человек «не может не писать», либо «совесть обязывает», во всяком случае, писатель знает, что хотел сказать читателю. Это касается содержания, несчастье — если форма отстает. Но, к сожалению, часто пишущий берется за перо лишь для того, чтобы напечататься, из тщеславия или просто от голода.
Мой очень одаренный друг юности, человек вообще в быту несерьезный, назвал вариант, который я вынужден был выбрать, желанием «пококетничать с вечностью». Когда пишешь, не только не думая о публикации, но и заведомо зная, что написанное «не пойдет», можешь совсем не марать бумагу, растрачивать силы, сон и время. Следовательно, если все-таки берешься за такое дело, надеешься на будущее. На что-то, что пусть будет уже «потом».
Для меня существуют три эпохи: до появления моего устного осведомителя – бабушки, а это 1870 год, современность с 1870-го до моей смерти – и все остальное «потом». А это равносильно работе человека, который в очень неблагоприятных условиях, на склоне лет, закапывает в землю саженцы, надеясь, что, вопреки вероятности, из них когда-то вырастут деревья и кто-нибудь порадуется им «потом»...
В тридцатые годы появился ряд романов, в которых солидные писатели довоенного поколения с высоты своих лет и взглядов дали послеверсальскому читателю прекрасное и весьма объективное изображение довоенного немца (Манн), австрийца (Рот), англичанина (Голсуорси) и т. д. Успех этих книг базировался не только на громких именах авторов: мир хотел узнать о прошлом из надежных источников, перенестись в мир отцов.
Лучше всех о той эпохе, которую считаю своей, т. е. о наследстве Австро-Венгрии в двадцатые годы на восточных окраинах, в так называемой Полу-Азии, написал Реццори. Он не случайно получил несколько литературных премий.
Описание моей необычной семьи, родных мест и оригиналов города моего детства дается мне очень легко, что я, кстати, считаю моей сильной стороной в отличие от слабой в передаче информации. Судьба славной семьи Хауслихов, рассказы о моих юношеских приключениях «на амурном поприще» (если дозволено воспользоваться языком старинных романов) дополнили хронику последнего города старой «Какании». Пусть читатель сам взвешивает «за» и «против» в нравах и обычаях, законах и деяниях тех дней, мест и национальных прослоек...
В своих сочинениях я всегда старался держаться правды, насколько позволяла хорошая память, а пробелы заполнял подходящими по стилю и содержанию выдумками, но сознательно никогда не искажал действительности. Иногда я обобщал или слегка шлифовал написанное ради выразительности или просто приличия, ибо те, о ком шла речь, не всегда пользовались литературным языком.
Работая над романом «Зеркало тети Сары», я впервые столкнулся с возможностью фантазировать, создавать людей по своему усмотрению и воспрянул духом, ибо был теперь ограничен лишь историческим фоном. При этом я понял, как ответственно писать правдиво без ограничения достоверности. «Я никогда не выдумываю искусственных людей», — писал гигант Томас Манн. У него хватило ума, памяти, опыта и таланта, чтобы лишь преобразовывать, развивать, разливать в желаемую форму настоящих людей, — события, знания, факты. Да, это — Манн.
Итак, мое дело, мое поле действия, хроника времен императоров, засиженных мухами, и великого попранника человеческого достоинства, разрушителя элементарных прав человека, гения зла, как называл его мой милый и проницательный покойный доктор.
***
2 апреля 1997 года. Ах, какие воспоминания — сегодня день рождения Алисы. Прекрасно помню этот день ровно 27 лет назад — как летит время! Да, я тогда был уже немолод, за пятьдесят... Сидел вечером в гостинице Сусумана, городка в Магаданской области, и начал писать «Culpa mea52» — свои глубокомысленные, как мне тогда казалось, воспоминания о женщинах прошедших времен... Вернее, о девушках, которых любил когда-то до лагеря. На дворе стоял сорокаградусный мороз, и природа инсценировала стихи Вийона: «Трещит мороз — я вижу розы мая». Мы ждали машину, чтобы возвращаться домой после успешной постановки пьесы «Дипломат». Актеры народного театра вернулись в Ягодное, а я — помощник режиссера, наш режиссер — неутомимый «старик» Липовский, полуитальянец-полуеврей из Одессы, с соответствующими темпераментом и хваткой, мастер на все руки, и наш «штатный балбес» Юра Филинов — в пьесе он играл помощника дипломата Боба — остались. Липовский и Филинов спали, я же рекапитулировал свои отношения с прекрасным полом на заре юности.
52 Culpa mea — исповедую свой грех, букв. — моя вина (лат.).
Пока писал, мне казалось, что я весьма древний, опытный старик, доживающий свой век. На Колыме работал уже двадцать четвертый год, о загранице либо смене общественного строя никто и не думал. Это был, если позволите каламбур, расцвет застоя и великая дата — столетие рождения вождя мирового пролетариата, ее широко отпраздновали во всем Союзе. Не знал я тогда, конечно, что это — просто затянувшийся миттельшпиль, а не действительно финиш, как теперь. Мне было немногим за пятьдесят, я с нетерпением ждал наступления пенсионного возраста, тем более что на работе не пером скрипел, а на своем собственном горбу таскал ящики и мешки.
Одновременно — чуть не согрешил против хорошего тона, написав по газетному «опасливо озираясь» — как раз дописывал свои колымские мемуары. Не зная еще, разумеется, ни Шаламова, ни Евгении Гинзбург. Солженицын же после «Ивана Денисовича» опять был под строгим запретом... «В моей жизни было полным-полно убийств, — сказал однажды старик Бонс, — я ни бога, ни черта не боюсь, но, когда мерещатся ужасы, мне становится страшно. Кое-что я уже видел, ей-богу! Я видел старого Флинта, вон там, в углу, у себя за спиной. Видел его ясно, как живого».
Много лет мне не давали покоя эти слова старого Билли Бонса (цитирую их по памяти). Что же касается страхов, увиденных мною в реальной действительности, то я старался кое-что сразу вытеснить из памяти. То были слишком отвратительные сцены, которые, держи я их постоянно перед внутренним взором, помешали бы мне работать и радоваться жизни. Сцены, которые вычеркивали все, на чем стоял и стоит мой мир, мои идеалы и надежды, сцены, которыми тщательно и систематически травили нас в запроволочной империи. Вот почему мне так трудно читать угрюмого Шаламова: он муссирует то, чего мне лучше вообще не помнить! В своих воспоминаниях о лагере я пытался не живописать ужасов, кое-что просто пропустил, помня высказывание Карла Крауса о частном секторе в душе читателя и такте, который необходимо проявлять в этом отношении (чего не делает желтая, да и более приличная пресса, спекулирующая на чувствах своих потребителей).
Писал я о милых, неиспорченных девушках, веселых жизнерадостных гимназистках, о рыжей Инге и других, и не мог даже в своих самых диких фантазиях предположить, что когда-нибудь еще доведется некоторых из них воочию увидеть. Моя единственная мечта тогда — сидеть в глубоком кожаном кресле напротив сестры и рассказывать, рассказывать о всех моих приключениях, невзгодах и радостях... Совершенно правильно предполагая, что только в таком случае позабуду о самых больших обидах...
Живя теперь, в конце ХХ века, пишу на манер начала столетия, ну, допустим, в лучшем случае, середины. Но это совсем не удивительно, ибо как раз в это время я очень много читал, формировал и утверждал свой литературный вкус. Что тут греха таить — мои литературные потуги направляла моя мать, которая практически до окончания гимназии руководила моим чтением. Тогда, в конце золотого века литературы, жили и творили такие крупные писатели как Сомерсет Моэм, Синклер Льюис, немцы Манны и Эрих Кестнер, французы Роллан, Франс, Мальро, испанец Мигель де Унамуно (почему-то так мало известный в Европе), и много-много других...
***
Я совершенно истощал, настолько перенапрягся, что целый месяц не мог даже книгу держать в руках. Потом вдоволь отоспался, до Нового года постепенно опять пришел в себя. Сравнил маленький запас времени, отмеренный мне судьбой, со своими обширными планами. Согласно этому приготовил маленький картон с перечнем того, что следовало «увековечить» в первую очередь. Первое место там занимало дополнение к «Городку на холмах». Несмотря на возможные неожиданности, несколько искалеченное от травм, радикулита и ран тело, ослабевшую память, у меня были большие планы: за месяц отредактировать и перепечатать воспоминания о детстве вплоть до поступления в вуз (январь 1995 г. — ред.).
К добру ли тот факт, что моя память значительно улучшилась? Даже в самые «забывчивые» часы рано утром, в постели? Не буду продолжать в этой несвойственной мне и недостойной манере самокопания. Ведь я, слава богу, не герой Достоевского — «философствовать мне противопоказано». Но коль скоро чешутся пальцы, будет, пожалуй, разумнее всего вечером либо после обеда взяться за планированную «Панскую улицу». Но главное пока — лыжи. Судьба не дает мне писать…
Начал писать «Панскую», идет хорошо... Для меня, конечно, интересно, но как для читателя со стороны? Если стоящее, надо подумать, как поаккуратнее вставить ее в «Городок на холмах». «Панскую» пишу вечерами вроде неплохо, но посмотрим, что сумею преподнести после общего описания. Если кончу удачно, придется, по-видимому, опять привезти машинку — жалко тратить летнее время на первичную перепечатку.
Не знаю, стоит ли продолжать дневник? Читаю — это чистая бытовщина, а где же «ума высокие стремленья»? Возможно, в «Панской»? Да, наверное, и там так себе, «чтобы не забывать азбуку». Между прочим, жду «душевного подъема», а сейчас мрачно, муторно на душе… Продолжаю «Панскую», как бы не вылилась в нудную графоманию. …Вечером вернусь к «Панской». Кое-какие случаи, возможно, там и лишние, пусть уже лучше жена рассудит, стоит ли продолжать…
Конец «Панской» мне совсем не нравится… Никак не могу найти начало для «Странного пастуха». Начну, наверное, с зубной боли Гросс-Фердля, главного пастуха, к которому пристроился Штадт-Петер, заблудившийся после падения в расселину ледника альпинист. Потом все идет легко, само собой, до апофеоза, когда за показанную дорогу англичанин подает ему монетку «на чай». Случай сам по себе незначительный, значит, его надо соответственно обрамлять. Овцеводство знаю лучше ухода за крупным рогатым скотом, но, надеюсь, вытяну.
Пока гулял, нашел, наконец, ряд эпизодов для пастухов и уже чувствую знакомый зуд — как бы побыстрее записать. Гуляя, боюсь подробно рассказывать особенно эффектные места, даже самому себе: потом не вспомнишь подробности, а скомкать — жалко. Насобирал уже много, не хватает только логичного конца. Часто мне говорят, что многое из написанного мною оставляет чувство незавершенности. Это, сам знаю, моя слабая сторона. Зато всегда можно продолжить рассказ, как саму жизнь, пока не оборвется.
Удивительно, совсем забыл, что писал в «Странном пастухе» — печатаю иногда как чужое. И это не только в последнее время, забываю подробности, фантазии. Ирина упрекает: трехлетний ребенок не может помнить сложные разговоры после стольких лет. Во-первых, не трех-, а четырехлетний... Много выражений помню точно, характерные обороты, а остальное дополняю по сюжету. После обеда закончил перепечатывать «Странного пастуха», сшил первый и второй экземпляры, хотя дома их все равно придется расшивать.
От сидения за машинкой ноет спина … Надеюсь уложиться в срок — от «Панской» осталось 50 страниц, от «Нарыма» — 21. Нечего об этом писать, все-таки это не Колыма, но читать вроде интересно. Исполнился месяц, что я тут. Вчера допечатал «Нарымские идиллии», а сегодня «Панскую» — почти один к одному с узкой рукописью. Читается небезынтересно, но, возможно, это просто мое субъективное ощущение. Перепечатал все тетради, включительно со вставкой, сшил и вместе с машинкой уложил в рюкзак (февраль 1995 г. — ред.).
Собираю воспоминания о кукольном театре и проч., надеюсь завершить «Дорогу». Все зависит от усердия Ирины, она ведь гораздо лучше меня видит со стороны, ей все и перепечатать. Ирина вроде стала штудировать «Дорогу». Без нее я, конечно, толком не могу составить, у нее лучше общий обзор — я же теряюсь в мелочах и дополнениях. Думаю, если честно, несмотря на мои идеи и первичные записи, что ее работа составляет не менее 80 %, о потраченном времени и говорить нечего.
Мне неохота беспрерывно сидеть за машинкой. Думаю, с тремя-четырьмя страницами в день легко успею закончить. Но если опять начну писать новое, мне так много лезет в голову, то застряну. Ирина считает, что все стоит записать. Она говорит, что у нее, бедной, лежат неправленые «тысяча страниц». Неужели и в самом деле я так много написал? Совестно отрывать ее от своих занятий... Как я рад, что, хотя бы летом и в санатории, она рисовала, гуляла и жила для себя, а не сидела с этой «Дорогой». Просто совесть немного спокойнее.
Чаще, чем когда-либо до этого, когда меня не отвлекают люди или домашние дела, вспоминаю свое детство, те незабываемые годы в Ч., описанные в «Дороге». Там, конечно, только маленькая доля. На ум приходят все новые и новые подробности. Иногда, когда неохота спать ночью, не выдерживаю и рассказываю себе все подробно, складно, хотя хорошо знаю, что утром ничего уже не буду помнить… Расточительность! Кому все эти подробности будут еще нужны… Когда зазвучат последние фанфары, я ведь в них все равно не поверю (дико даже подумать, что существуют разумные люди, которые это делают!) Трудно различать, что еще представляет общий интерес, а что уже слишком личное. И интересно лишь мне и, возможно, жене или близким друзьям, которых практически тут у меня нет. Простительно (относительно), когда речь о важной фигуре, но объявить себя таковой — просто дурной вкус. Поэтому мне и не нравится велеречивость или, по-русски, графоманство Солженицына…
Глядя на сей пагубный пример, призываю себя к скромности. Даже если, что вряд ли случится, кто-нибудь в будущем заинтересуется моей жизнью и персоной. Зачем ему подробности, касающиеся моей жизни и ныне не существующей моей семьи? Этим, увы, грешат так многие. Исключение — «Детство» и «Мои университеты» Горького. Читал их еще мальчиком лет десяти-двенадцати, с огромным интересом, не утружденный долгом, что это «необходимо читать», или предвзятым мнением, что это должно быть интересным. В то же время читал Мая, «Между водой и девственным лесом» Швейцера. А вот ранняя автобиография Толстого, хоть и написана прекрасно, все же имеет малоинтересные длинноты…
К обеду неприятная сцена. Жена ругала мою маму. Считаю, некрасиво: перепечатывает рукопись и пользуется сведениями о семье (декабрь 1996 г. — ред.). Вчера принесла «Дорогу» — она ее редактирует и будет перепечатывать. Громадный труд — там, наверное, около четырехсот страниц. А я вдруг, как на ковре-самолете, перенесся в свое детство, в «городок на холмах» и, в конечном итоге, уже не мог понять, где истина, а где моя фантазия… Эх, до чего хороша была моя юность! Когда тебе громко читают о маме, Литти, Инге, Алисе, ощущаешь все пластично…
Не знаю, как будет дальше, но пока в пустынном с утра коридоре так легко пишется… Вокруг встают милые тени моего детства, юности! На свете их не осталось, наверное, и дюжины, да где их еще разыскать, а тут, в моей фантазии, они все в сборе… Ирина усердно работает над манускриптом «Дороги» — там все ужасно спутано, хочется наконец увидеть начисто отпечатанную на машинке рукопись. Ведь речь о самом красивом отрезке жизни, когда все еще было впереди. А что осталось?
Редактировали, правили — совсем неплохо звучит моя «Дорога»… Как трудно слушать чтение «Городка на холмах». Все детство нахлынуло на меня — атмосфера, которая сгинула невозвратно, как только первый советский танк заехал на центральную площадь. А жена — как она старается влить в литературную форму все написанное мною, — хотя у нас с ней несколько разные понятия о многоплановости и дозволенном в прозе.
Пробыл дома только два дня, кроме как на почту, никуда не ходил, буквально бездельничал, только правил перепечатанные женой мои воспоминания (март 1997 г. — ред.). Читается приятно, но сколько еще сотен страниц надо перелопатить, страшно подумать! Думаю, летом, на даче, буду помогать, координировать, делать вставки. Ее работа все равно главная — печатать и править ошибки! Там, наверное, с десяток дополнений — «Панская улица», «Вилла «Лола», «Рарэу» и т. д.
Странно понятны рассуждения Гете о детских мыслях. Ведь он писал, будучи уже зрелым человеком. Возражения моих критиков — и среди них, конечно, самый придирчивый — жена, что ребенок никак не может помнить целые фразы, не говоря уже о разговорах, опровергаются Гете. Если войдешь в дух времени с небольшой фантазией, да просто помогая истине, можно хорошо восстановить суть сказанного — это похоже на перевод с другого языка. Кроме того, бывают определенные выражения, которые навсегда застревают в памяти — как, например, «нервы вырастают лишь в двадцать лет» и другие, которые я вставил в биографические заметки. А еще слова, выражения других, например, Перуна, на чью память могу положиться, как на собственную…
В «Воспоминаниях о тридцатых» жене будет нелегко: там, особенно во вставках, много повторов… Хотя более аккуратного (но и неумолимо дотошного) редактора вряд ли разыскать — да и зачем, раз он у меня «под боком»? Сам уже любопытствую, как и куда она вставит «Панскую» и «Виллу «Лолу»… Хитришь, Петер, это ведь, честно говоря, дело автора, а не редактора!
Жена предлагает все воспоминания назвать «Рарэу» — опять, конечно, попала в точку (богатая фантазия и еще удивительно хорошо соображает). «Это символ твоего детства, стремления, мечты, — нужно только дописать хорошую концовку — нельзя все закончить этой девицей». Печатал много, уже 115 страниц.
Нет у меня единственной книги Вальтера Скотта, которую люблю, истории шотландского разбойника Роб Роя. Это один из немногих людей из плоти и крови, а не искусственная, бледная фигура, вроде вечного бюллетенщика Айвенго. Там, в Роб Рое, моя романтичная любовь, идеальная фигура Диана Вернон, чья фамилия стала частью моего псевдонима. А вторая его часть — искаженная фамилия моего первого, убитого, свояка, мужа Эрни.
О ненужной двуплановости. Я полагаю, что форма рассказа в рассказе, наоборот, удачна и давно проверена, тем более что место действия в рассказах совпадает и они объединены общей фигурой рассказчика... Иное в «Деле Курчиоглы» — там «дело» действительно совсем оторвано от обрамления, однако в конце сказано, что это фрагмент из воспоминаний о детстве («Далекое близкое»). Помню потрясающий рассказ «Саид и Адинда» из романа «Макс Хавелаар» великого гуманиста Мультатули, где автор в конце дает ясно понять, что это часть совсем другой оперы.
Что касается «Пражского интермеццо», едва ли не самого дорогого мне рассказа, то, как и «Курчиоглы», это фрагмент, для полного понимания которого необходимо подключить предыдущее. Историческая канва «Интермеццо» перекликается с «Хрустальной ночью», и тут я в корне не согласен с критикой, ибо о фактах не приходится спорить, это теперь история.
Относительно «Рарэу» я согласен, что там втиснуто слишком много разрозненного. Беда не в том, что я подзабыл — места моей юности я отлично помню, — а в неудачно выбранной форме. Если бы настроился на длинную историю, в которой можно было с расстановкой выкладывать характерное и живописное, как, например, в «Городке на холмах», а то слишком много было чужим для постороннего читателя, информация разорвана, нагромождена вне связи с сюжетом и не изложена в удобоваримой форме.
Тут-то и нужно было поработать, но я придерживаюсь иного мнения: чем лечить, лучше рожать заново. Так, пожалуй, даже легче — напишу еще что-нибудь, пока запасы есть, а шлифовать стану, когда не останется более сил творить... Это, конечно, и лень-матушка, но я никогда не сосредоточивался на филигранной работе — дела мне нужны, а не мелкопись, тем более что я, очевидно, до печати не доживу (тогда можно было бы совершенствовать)...
Что я в бессонницу только не выдумываю, пишу в уме румынские письма Эрни, уточнения и дополнения к «Панской улице»... Но все это не так уж нужно — интересно лишь для старожила доброго старого города на холмах, а их осталось, увы, так мало! Время поджимает, а сколько еще необходимо записать. Ирина, оказывается, не знает (либо не помнит) самых элементарных моих приключений, о которых я сто раз рассказывал друзьям. («Это один из лучших моих рассказов», называл это покойный Лио, вспомнив тот или иной забавный случай). Поэтому все нужно записать. Иначе ведь пропадет, а у Ирины надежно сохранится: другие забывают, и что им до меня, либо находятся вне поля зрения, как Херта, Эрни, Кэте (1998 г. — ред.).
Редактор «Дружбы народов» Бахнов едет за границу читать какие-то курсы, так что печать «Первой жизни» опять отложили до «греческих календ». В Риме, где в календаре не было греческих календ, это значило «никогда». Повесть ему, однако, очень понравилась, хочет печатать в двух номерах журнальный вариант, сокращенный, конечно... Вчера еще раз был у Бахнова (март 1999 г. — ред.). Встретил хорошо, представил главному редактору и другим фигурам... Все хвалят «Первую жизнь», но — «пока не сможем...».
Начинаю готовить к изданию «Первую жизнь» (май 2000 г. ред.). Ирина обещает помочь. Не знаю, насколько повесть интересна для «местных жителей», чего там недостает, хотя город и нравы обрисованы правильно (сравнивая с Реццори).
Ирочка сдает в издательство «Первую жизнь» (декабрь 2000 г. — ред.). Теперь вопрос: книга или круиз? Я не буду тормошить Иру — деньги ведь ее, но, собственно говоря, мне Южная Америка важнее. Книгу можно и потом, а мне такой вояж скоро будет не под силу. Готовить книгу можно и летом, когда опять будут деньги.
Теперь Ирина... работает над иллюстрациями к «Первой жизни» (январь 2001 г. — ред.). Идеи, рисунки у нее так и сыплются... Просто завидно... Эх, если б я умел так рисовать. Ира не очень-то хорошо себя чувствует, гипертония, но усердно работает над «Первой жизнью»... Добивает рукопись. Нарисовала прекрасно Рарэу для книги — не могу дождаться выхода.
С «Первой жизнью» скверно, новая компьютерщица Оля партачит, директор «Глобуса» — пьяница. Ирочка не заключила договор, увы! Не все люди такие порядочные, как она. Придется там выступать энергично, не люблю этого, но, если нужно, лишь бы она не вмешивалась. Опять работала ночью до изнеможения. Но ведь она упрямая — ужас!
Ира сделала отличные рисунки для книги, особенно удались женщина с ребенком и громадной собакой да прадед, получивший десять крейцеров от англичанина, которому показал дорогу. ...Она много волнуется, а это так для нее вредно... Я стараюсь ей не перечить. Сколько у нее нервотрепки с этой Олей-компьютерщицей. Иллюстрации уже напечатали, считаю, очень удачно... Последнее время живу воспоминаниями (естественно, из-за книги). 31 марта был 106-й день рождения мамы, а бабушка родилась 29.03. 2 апреля — день рождения Алисы — эх, так и не увидел ее, не встретил в Мадриде (весна 2001 г. — ред.).
Уже больше месяца, как вернулся из круиза (осень 2001 г. — ред.). Тем временем дома вышла «Первая жизнь» — первая часть моей биографии. Довольно удачно, рисунки Ирочки — только продавать книгу будет нелегко, в основном будем «так» раздавать.
Утром в постели фантазирую, рассказываю себе сказки, приключения по давней привычке. Как делал очень давно, начиная с шести-семи лет, или вспоминаю события юности, достойные увековечения. На своем родном городе, Черновцах, решил особенно не останавливаться. Хотя случаи из моего детства постоянно приходят на память, но я в основном описал это в «Первой жизни» — первой книге моей автобиографии.
Из Австрийской библиотеки по блату (они книг домой вообще не дают) взял совсем новую книгу о Буковине и Черновцах (в основном об австрийских писателях за границей). Сколько там старых знакомых и друзей! Перепахал эти 400 страниц за трое с половиной суток, читал даже ночью. Хеди Лангхаус слабо, конечно, но сестра Пуппи Шиндлер пишет вполне приличные стихи. Дружила, оказывается, с Паулем. Там еще Дроздовский. Почему убрали «фон»? Реццори и другие. Узнал много нового о Ч., о чем раньше не знал. Старейшая Роза Цуккерман умерла в 2002 году, в возрасте за 90.
А я все чаще вспоминаю ночью о детстве, о Черновцах и друзьях… Как же все-таки там было хорошо…. Да, как там сохранился дух и традиции старой Австро-Венгрии. Читал Францоза, вспомнил Czernowitz, каким город был 150 лет назад. Читал давно — забыл почти все! Читаю своих — Францоза, Реццори... Czernowitz зовет в связи с «Первой жизнью»... Обидно, исчезнувшая культура, друзья, юность… (1.1.2004 г. — ред.).
Вернон КРЕСС
Замість післямови з видання
Кресс, Вернон Первая жизнь. (Не)выдуманная повесть / Вернон Кресс ; 3-е изд., доп.; составитель Юрий Чорней. — Черновцы : Книги — ХХІ, 2019. — 512 с.