
Вечерок с Игорем Померанцевым (навздогін уікенду)
Я искренне не люблю культуру, но мне нравится удовольствие от игры ума, чувства, слова. Среди буковинских писателей много культурных людей, к сожалению. Но удовольствие, как мы часто убеждаемся, получаешь от немногих.
Предлагаю небольшую подборку Игоря Померанцева, здесь много о Черновцах. Но не только. Это написано с удовольствием, для удовольствия. Делюсь.
С. Воронцов
Итак, Игорь Померанцев:
І
"Этот город выстроен из недомолвок, дыма и крика. В его дворах, где пасутся дожди, громоздятся искореженные клетки для птиц и полуистлевшие кошки трутся о пепельных голубей. В его стенах – непробитые окна, обрамленные карнизами. Каменные намеки. Казалось, уже все было готово, чтоб извлечь кубометр кирпича, но вдруг началась чума или нахлынула вражеская армия, и ступеньки нелепо уткнулись в то место, где должна была появиться дверь, – так алхимик на смертном одре мог бы раскрыть лишь половину тайны. Черновцы размыты переулками. На какой-то окраине, в каких-то отголосках города, где запах и цвет – одно и то же, прорезаются тополя...” - писал о родном городе восторженнный второкурскник
Отречение от своего прошлого – это отречение и от будущего. Я не намерен отказываться от своего юношеского голословия. Я лучше попробую еще раз, снова о Черновцах. Вдруг получится?
Сначала: поля: кукурузные, картофельные, гороховые – без края, без границ; какой-то пространственный разгул, разврат – и это тоже город – и ты, в ужасе глядящий на ртутных, рассыпающихся вдаль мальчишек. И вот ты уже один на один с дюреровским муравьем, лезвием кукурузного листа, дрожью поджилок. Крепко сжаты и забыты два стручка гороха в ладони, сладкие молочные слезы в лопатках. Все это повторится еще тысячу раз – на каменных мостовых – только мелькнет меж домов оранжевая майка старшего брата; это он убегает от тебя со своими ровесниками, они сильнее и выносливее, они бросят тебя одного, с болью в селезенке, с мокрыми солеными ресницами; и потом на тех же мостовых тебе крикнет женщина ”Все! Все!”, и за нею с грохотом захлопнутся дверные створки трамвая, а твоя боль медленно, как в лифте, подымется из селезенки в грудь и остановится – уже навсегда – возле левого соска, а ты, по-прежнему забыв обо всем на свете, будешь сжимать в своей побелевшей ладони два нелепых гороховых стручка – сладкие молочные слезы в лопатках.
Мое зеленое, виноградное, тминное детство под сенью дедушек (позднее разобрался: дедушка – один, все остальные – его братья); не помню в раннем детстве зим; оглядываюсь и вижу: вечный июль, воздух, струящийся из набухших яблок, щекочущий до головокруженья. Первый трехколесный велосипед. Я буду ездить на нем, пока коленки не уткнутся в подбородок. Потом – сразу – едва сандалики дотягиваются — "Орленок”. А мне уже тесно в саду, и своя улица мне мала, и как замечательно, что этот город скроен на вырост. Я набираю скорость, и мой брат уже не придерживает меня за багажник. На прозрачных спицах я открываю квартал за кварталом, и с моих шин слетают навозные иголочки пригорода прямо на убористые булыжники по-ярмарочному нарядного центра. Горбуны; безумцы; расписанные, как пасхальные крашенки, крестьяне; евреи – что ни мужчина, то Кафка, что ни старуха, то вечность – все это по боку, только за локтями просвистело. На велосипеде с отказавшим тормозом я наматываю на колеса уже не километры, а годы. Как странно: вокруг меня все говорят по-немецки и по-румынски, а я все понимаю. Я знаю этого мальчика и девочку, которой он кричит ”Аме!”. Его зовут Пауль Анчел. Став взрослым, он переиначит свою фамилию в Целан, и в литературных энциклопедиях вслед за датами его рождения и гибели напишут "выдающийся австрийский поэт”. А пока мы втроем на берегу речки Прут. Среди жалящей гальки мы находим песчаный оазис. Песок, как крем, проходит сквозь пальцы. Вода студена. Становишься на цыпочки, тянешься вверх – лишь бы ледяной поясок не замкнулся на талии. Обрушиваешься. "Мальчики! Не заплывайте далеко!” — это голос Аме.
Конец мая, семьдесят какой год? Мы сидим на кухне – только там и остались табуретки. Все упаковано, чемоданы затянуты, замкнуты саквояжи на маленькие игрушечные ключики. Мне кажется, что я на перроне и слышу рыданье и сам давлюсь слезами под тихую еврейскую мелодию. Край тьмы. Край света. Но куда эмигрировать от себя? Как Пауль – головой в Сену? Женщина с юным лицом и звонкой сединой говорит:
– Он был красивый мальчик. Он был красив утром, вечером, в гимназии, в библиотеке...
Мы тянем остывший кофе. Амалия спрашивает:
– Вы хотите переводить стихи Пауля?
– Нет, – говорю я и чувствую: надо что-то добавить, что-то объяснить. Но мне ведь и самому не все ясно, я ведь и себе не могу внятно ответить, зачем пришел к этой женщине, зачем цежу холодную кофейную кашицу и не хочу, не хочу уходить. Я возвращаюсь в довоенные Черновцы. Забегаю на рынок, улыбаюсь гуцулкам в накрахмаленных чистеньких передничках, пробую ослепительно белый творог — он тает на языке быстрее снега. Я не пропускаю ни одного подвальчика с намалеванной на дверях гроздью винограда, пью из деревянных кружек. Как кружится небо над головой. Как пьян этот воздух.
– Ты хотел бы показать мне Черновцы? Крупнозернистая стена дома. Бесконечный, как зевок, туман. Родители позволяют ей возвращаться не позже одиннадцати. Мы медленно отрываемся от земли. Вот летят над Украиной не ведьма и ведьмак, а юная женщина и молодой мужчина. Его знобит и он поднимает воротник. Низко над ними Млечный путь, и когда они пролетают над огнями городов, мужчина поеживается на звездном сквозняке. Так летим мы, рука в руке, пока утро не открывает перед нами мой Дублин, мой Витебск, мой городок. Последние вельветовые лоскутки свежевспаханных полей и крыши, крыши. Любимая, осторожно: легкое облачко – чей-то сладкий сон. Ноги, прикоснувшись к плитам, зудят с непривычки. Тротуар. Подъезд. Потом еще глубже, по осклизлым ступенькам, сквозь острый помойный аромат; в этой подвальной полумгле с темными сырыми разводами памяти на потолках – слышишь ли ты ребячий голосок:
Раз, два, три четыре, пять — я иду искать.
Кто не заховался — я не виноват?
Стремглав, нарочно с нею, спрячемся, нет, не сюда, здесь сразу найдут, да, да, в этот влажный, дрожащий мрак; тоньше ниточки – щелка. Она глядит сквозь нее, видит восклицание ’Тук-тук за себя!”, и я тоже, из-за спины заглядываю в щелку, не чтоб увидеть – чтоб прикоснуться к лезвию плеча, яблочному локотку; ночь в глазах.
Я не заховался. Я не виноват. Вот кто-то отделяется от тьмы, вылитый я, со щетиной и трауром под ногтями. Он отстраняет тебя и кулаком убивает меня насмерть ударом в висок.
ІІ
В сентябре мое сердце превращается в каштан, твердый и маслянистый. Вот ты глядишь на деревья, и они становятся карими. В этом круто заваренном воздухе осени, под разнобой каштанов, под слепым дождем поцелуев – я жмурюсь, я улыбаюсь, а кажется, что жмурюсь – спрячь ладонь в карман моего плаща, подними свой воротник, так дует в спину, что ты превращаешься в парусник(...) Эта осень про тебя. Ты снимаешь червонное кольцо, жгут листья, оно катится по ночному столику, дымок оселедцем тянется к ограде, к дощечке на калитке "выгул собак строго воспрещен”, давай прикинемся не муругими, пойдем аллеей, простоим весь ”жовтень”, весь "листопад” – так назвали эти месяцы украинцы – чтоб поймать то мгновенье, когда листья меняются в цвете – так и не поймаем, потому что не кроны меняются, а что-то происходит в нас: леденеют хрусталики, твердеет роговица, вон, у обрыва, могила ученого – он хотел продлить наши жизни, слава Богу, ничего не вышло, школьницы набивают портфели каштанами – пожалуйста, мне не жалко, пожалуйста, дома раздавайте их младшим братьям и сестрам, когда они кинутся к дверям на ваш звонок, пойдем к обрыву, кольцо твое ка..., мне подмышки спрячь свои озябшие ладони, чем студенее воздух, тем воспаленнее цвет. У тебя черновицкое лицо. Все люди родились в Черновцах. Это пиршество гласных, эти барочные интонации, эти имена – гроздья: Мара, Изя, Фира, Шела, Рува. Я компостирую талоны под голос водителя: "Трамвай идет только до Черновцов”. Эти холеные имена и лица. Кто-то царапал подушечку пальца острием, ронял иглу на черный блестящий диск, и из- под иглы какой-то страстотерпец пел: ”3а все, за все спасибо, за то, что ты красива...”. И если холеная щека девятиклассницы не отдергивалась от твоих не знающих наверное, что делать, губ, то ты считал это счастьем. И если холеной улыбкой тебя приглашали на дамский, ты понимал: большей победы ты не одержишь никогда. Эти девочки исчезли самыми первыми – кто ждал их в Хайфе, Натании, Иерусалиме? Я приставляю револьверное дуло к затылку водителя: "Никаких Черновцов. Вы останетесь в Киеве. Я хочу выйти сейчас, в Крепостном переулке”. За моей спиной шушукаются две девочки: ”Я видела маму в окне, она ждет меня на остановке, Мариша, уже поздно, я прошу тебя, выйдем, меня ждет мама”. У тебя черновицкое лицо. Я никогда не смогу любить другие лица.
И еще немного:
*
Какими судьбами
в этой германской глуши
утренние алкоголики,
знакомые по кафе "Аэлита".
Как похожи.
Как похожи на поэтов.
Та же пылкость и кокетство,
ужимки свободы, артистизм
и недобритость.
Сидят на ящиках
близ спортивных площадок
районного значения.
Если б был женщиной,
то только такого.
Если б жил,
то только так.
*
Один и тот же образ
детского счастья:
драма пряток и преследованья
в подвалах,
в старой крепости,
на графских развалинах.
О, несчастные дети Лондона!
О, мой бедный сын!
Ни разрушенных замков,
ни цибули
в чужом огороде,
ни зари,
ни туманной,
ни юности.
*
Кого ещё не поблагодарил?
А, Лёнчика! Богатенького Лёнчика.
У него всегда карманы были набиты барбарисками,
дюшесом и даже "раковой шейкой".
Малыши клянчили, но он отвечал:
– Не. Могу дать сладкой слюны.
Не отказывался только Марат,
дворничихин сын.
Лёнчик щедро плевал ему в ладонь,
и Марат лакал, слизывал.
Спасибо, Лёнчик!

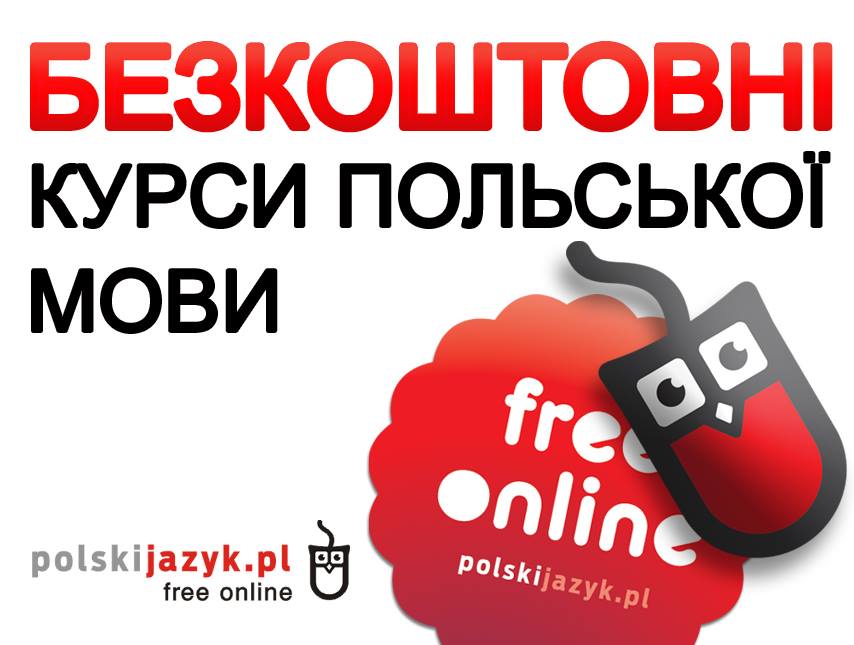
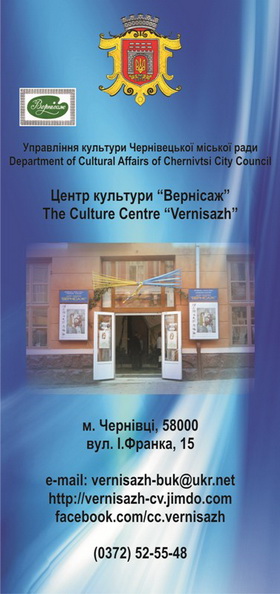


КОМЕНТАРІ (12)
Пролетела стая птиц: откуда? куда? - над Черновцами. Но каждому досталось хоть одно их перышко...
Валентин
17 червня 2012 23:47
На сайте "Gruss aus Czernowitz" меня спросили по поводу моей ремарки:
Среди буковинских писателей много культурных людей, к сожалению." Тут что-то не стыкуется?
И я уточнил мысль:
На первый взгляд не стыкуется. Вы просто давно с буковинскими мытцями не сталкивались. Я, конечно, не обобщаю. Просто эти люди часто чувствуют себя "служителями культуры"," носителями культурных ценностей", все то им должны, потому что "главное -- культура". И они болтают об этом и болтают. Вы таких персонажей не встречали? А на самом деле они носители скуки. И культуру этой скукой добивают. Мне же нравятся писатели, которые "носители себя", своего умения виртуозно думать, своей способности интересно чувствовать, умения взглянуть над, искусства найти ошеломляющий ракурс... Тогда интересно, тогда удовольствие. Померанцев - один из них.
Сергій Воронцов
18 червня 2012 08:15
Сергей, слово "культура" нужно было, в таком контексте, взять в кавычки. Культура - это непостижимое и всеобъемлющее понятие. Очаровательный цветок - это культура, удивительный дом в старинном парке - это культура, одинокая дорога среди полей, обсаженная липами, - это культура... Рерих говорил: "Даже полы могут быть вымыты прекрасно".
Валентин
18 червня 2012 08:33
Да, кавычки нужны. Но оно чувствует себя без кавычек. Вот в чем дело. Это меня то смешит, то раздражает.
Про полы хорошо Рерих заметил, это правильный камертон. Спасибо.
Сергій Воронцов
18 червня 2012 09:44
Когда я слышу слово "культура", я искренне хватаюсь за пистолет. И получаю удовольствие от игры воображения - расстреливая в упор буковинских писателей. Всех - от Килинича до Ластивки, от Фольварочного до дедушки Бурбака, и далее - в глубь времен - Кобылянская, Федькович, трыпильский, бляха, культурный летописец... Всех повбывав бы, культуроносцев пафосных, на фиг)))))
Emil Krupnik
19 червня 2012 01:47
"Всех - от Килинича до Ластивки, от Фольварочного до дедушки Бурбака, и далее - в глубь времен - Кобылянская, Федькович, трыпильский, бляха, культурный летописец... Всех повбывав бы, культуроносцев пафосных, на фиг)))))"
"Всех буковинских писателей"? Огласите ВЕСЬ список, пожалуйста! Для Крыма и Цидельковского там нашлось место? А для Бурга? Может пощадите кого-то? Матиос и Кожелянко, например? "Пафосные культуроносцы" Кобылянская с Федьковичем, как и "основоположник" украинской музыки Лысенко, ни сном, ни духом о такой сомнительной славе и не мечтали. А расстреливать надо иделогов, цепляющих ярлыки.
Koziavka
19 червня 2012 11:51
Эмиль кажется пошутил. Но как-то хреново...
А что за предложение расстрелять Цидельковского? Ты, козявка, зверь. Или просто его стихов наслушался?
За козявку
19 червня 2012 12:11
Переконаний, що автори, які тут хизуються тіпа своєю втомою від нецікавих текстів, насправді творів Кобилянської не читали і навіть в очі не бачили. Врешті, цікавість річ суб'єктивна. Нецікаво вам - це ще зовсім не значить, що нецікаво іншим. Чим ви кращі за справделиво критикованих "миСтців культури", якщо підходите до світу з такою самою зашореною міркою? Тільки з іншим знаком.
Руки геть від Кобилянської!
19 червня 2012 12:12
Никто не говорил о Кобылянской. Авторов не было. Была ремарка Эмиля Крупника.
Что касатеся моих замечаний, речь не о Кобылянской. Вы прекрасно знаете о чем, а может быть даже о ком идет речь.
Sergei Vorontsov
19 червня 2012 12:16
Не-не-не! Не стреляйте в пиСаниста...! Хай живе! Графоманы вымирают самостоятельно. История сама отделяет зёрна от плевел.
Koziavka
19 червня 2012 12:47
И получаю удовольствие от игры воображения
И получаю удоволствие от игры воображения. Федькович восстает из мертвых, нежно связывает Милю Крупника и читает ему вирши Цидельковского всю ночь. На утро Миля седеет, как Хома Брут. Поют петухи, Федькович поднимается, наклоняется до Крупника и говрит: " Приду вечором, дочитаю". ЗАНАВЕС. Из под занавеса нечеловеческий крик.
За козявку
19 червня 2012 14:42
За козявку - 1000 вздернутых вверх больших пальцев!!!! Бу-га-га - от души!
Emil Krupnik
19 червня 2012 19:00